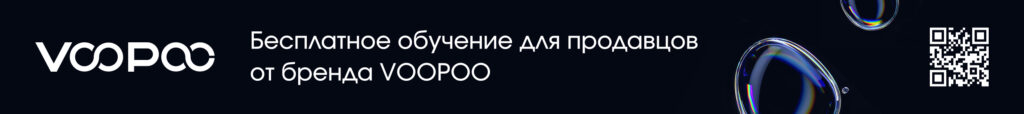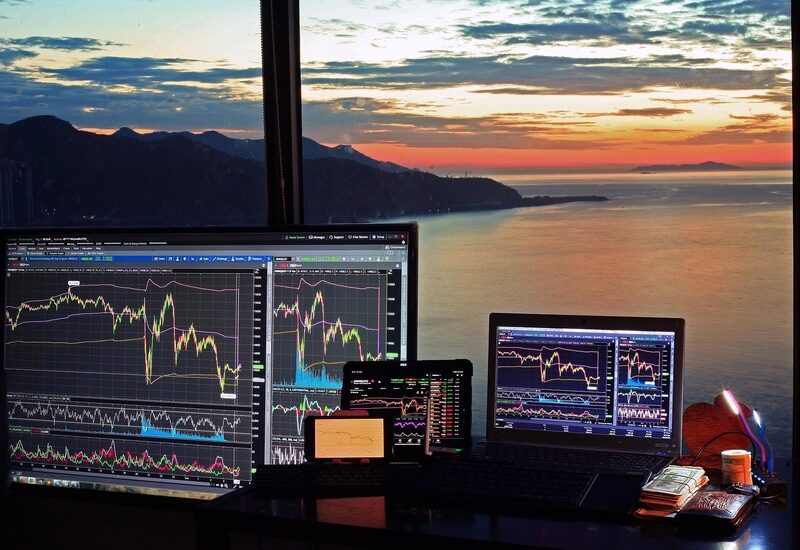Здоровье на продажу: крах коллективной мечты
От мечты об универсализации к краху сотрудничества. От международной солидарности к коммерциализации ухода и запланированной зависимости. Что осталось от здоровья как общего блага? Какой звук издает здоровье, когда рушится?
Источник: The Vaping Today
«Здоровье — это самое жестокое зеркало политических решений».
Эта фраза, часто повторяемая бразильским врачом-санитарием и ученым Жаирнильсоном Паимом на конференциях и в основополагающих текстах по вопросам общественного здравоохранения, сегодня звучит с почти невыносимой настойчивостью.
Жестокая, потому что это не метафора, а реальность. За каждой кривой на эпидемиологических графиках скрываются лица, имена, внезапно оборванные истории. И каждое бюджетное решение, каким бы техническим оно ни казалось, является прежде всего политическим актом — актом мышления, желания и воли — раной, которая кровоточит на самых уязвимых слоях населения.
Холодность цифр скрывает насилие институциональной халатности. Именно в этой бездне, между данными и человеческой трагедией, без анестезии обнажается провал — или компромисс — государства. Ведь здравоохранение, в конце концов, — это не только сфера деятельности правительства: это этический термометр общества.
В мире после 2020 года интервал между вирусной вспышкой в отдаленной деревне в Африке к югу от Сахары и дипломатическим кризисом в коридорах Брюсселя измеряется уже не границами, а часами.
Здравоохранение — ранее техническая сфера, зарезервированная для сдержанных министров и специалистов в белых халатах — оказалось в центре глобальной политико-экономической арены. Оно стало идеологическим полем битвы, ключевым элементом многомиллиардного бизнеса и стратегическим инструментом в межгосударственной дипломатии.
Когда эксперты на международных форумах и в специализированных журналах предупреждают о «конце золотого века глобального здравоохранения», они говорят не только о сокращении ресурсов. То, что рушится, — это неявный пакт, моральное и геополитическое соглашение, которое на протяжении трех десятилетий обеспечивало выживание миллионов людей. В конечном счете, рушится не только модель финансирования. Рушится сама идея солидарности как возможной основы международного здравоохранения.
Между руинами и обещаниями
В прекрасном эссе, опубликованном в Journal of Epidemiology and Global Health, Дерек Яч, Авива Рон и Дорит Ницан не представляют технический отчет и не дают рутинный диагноз. То, что они пишут, по сути, является некрологом.
И как всякая некрологическая статья, которая сопротивляется холодности конца, она содержит не только скорбь, но и попытку составить карту того, что еще можно спасти из обломков.
Троица авторов утверждает, что глобальное здравоохранение, как оно было задумано в 90-е годы — под знаком взаимозависимости и многостороннего финансирования — достигло исторического переломного момента. Сейчас на карту поставлено не только распределение ресурсов, но и нечто более редкое, более хрупкое и глубоко политическое: способность воображать новые формы заботы, управления и коллективного соглашения о жизни.
Без этого воображения, предупреждают они, будущее глобального здравоохранения рискует стать лишь смягченной версией его неудачного прошлого.
Чтобы понять текущий кризис, недостаточно смотреть на графики и балансы: нужно вернуться к тому, о чем мечтали до того, как деньги стали мерилом всех вещей.
Фундамент перед обрушением
До того, как глобальное здравоохранение было поглощено рыночной логикой и геополитической динамикой власти, оно было — по крайней мере частично — цивилизационным проектом. Обещанием: ни одна жизнь не будет брошена на произвол судьбы из-за отсутствия доступа, территории или паспорта.
Возвращение к этим основам — не проявление ностальгии. Это признание того, что под руинами систем все еще жива идея мира, основанного на этических соглашениях и радикальной солидарности.
В 1920 году, еще под впечатлением от Первой мировой войны, британский врач Бертран Доусон (лорд Доусон) представил парламенту смелое предложение: создать интегрированные, децентрализованные и близкие к сообществам сети здравоохранения. Система, основанная на профилактике, территориальном уходе и коллективной ответственности.
Примерно в то же время в зарождающемся Советском Союзе формировалась модель Семашко — первая в мире система всеобщего и бесплатного здравоохранения. Она отличалась жестким государственным контролем, акцентом на профилактике и участии населения, централизовала медицинские услуги и организовывала медицинскую помощь на основе коллективных, а не коммерческих критериев.
Спустя десятилетия эта советская модель повлияла на многие системы социализированного здравоохранения, в том числе на Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS), созданную в 1948 году и вдохновленную как докладом Доусона, так и принципами европейского научного социализма.
Доусон, со своей стороны, предвосхитил заметно современные идеи. Он предложил создать многопрофильные команды для лечения таких заболеваний, как туберкулез, психические расстройства и других социальных уязвимостей. Обладая редкой для своего времени прозорливостью, он предвидел то, что сегодня мы называем комплексным уходом и психосоциальной помощью. В своем докладе — прозорливом документе — он уже рассматривал здоровье как право, а не как привилегию, подчиненную правилам рынка.
Но проект был быстро поглощен внутренними политическими спорами и консервативной реставрацией послевоенного периода. Тем не менее, он оставил неизгладимый след в последующих дебатах: неудобный след того, что могло бы стать началом другой парадигмы. Модели, в которой уход отвечал бы не логике прибыли, а логике близости. И логике человеческого достоинства.
Спустя десятилетия, в 1959 году, Кубинская революция подняла — из руин глубоко неравноправной страны, находящейся под постоянной внешней блокадой — систему всеобщего, бесплатного и территориализованного здравоохранения, сформированную по своему образцу: модель, ориентированную на профилактику и профилактику, с участием общественности в управлении через советы, ассоциации и механизмы социального контроля на разных административных уровнях. Система, которая с самого начала объединяла меры по охране здоровья с базовым санитарным обслуживанием и защитой окружающей среды.
Кубинская семейная медицина не только устояла: она пережила экономические блокады, распад Советского Союза, нехватку материалов, голод. Она сохранилась там, где многие другие системы рухнули. И тем самым стала неудобным маяком на международной арене: конкретным доказательством того, что небольшая островная страна с ограниченными ресурсами, но с политической волей может превратить здравоохранение в инструмент суверенитета и коллективного достоинства. Символический вызов тем, кто на севере земного шара по-прежнему настаивает на том, чтобы рассматривать здравоохранение как товар.
Примерно в то же время, между 1950 и 1970 годами, вдали от центров власти зарождались опыты общинного здравоохранения в африканских деревнях, в джунглях Латинской Америки, в небольших азиатских поселках. Многие из них были миссионерскими инициативами, другие — филантропическими; почти все были импровизированными, поддерживались скудными ресурсами и срочной необходимостью оказания помощи. Но их объединяло одно важное: прямая связь с населением. Практики слушания и присутствия, радикальной близости, где медицинские знания переплетались с древними знаниями, чувствами и ритмами земли.
Эти проекты не были систематизированы и не отмечались в официальных отчетах, но они оставили след. Семена другой идеи здоровья, рожденной снизу, а не в кабинетах.
На юге американского континента, в разгар военного режима в Бразилии, начало прорастать нечто глубоко подрывное. Это был 1976 год, и недавно созданный Департамент социальной медицины Федерального университета Пелотас осмелился предложить немыслимое: бесплатную, базовую, универсальную систему здравоохранения, укорененную в территориях, забытых государством. В то время, когда репрессии приводили к пыткам и исчезновениям, заглушали голоса и уничтожали права, думать о здоровье как о коллективном освобождении было не просто академическим жестом: это был политический акт.
Два года спустя эта местная утопия, зародившаяся в условиях авторитаризма, нашла отклик на международной арене. Это доказательство того, что даже в самых густых тенях все еще возможно сеять проекты мира.
Алма-Ата: прерванная мечта
Казахстан, 1978 год. В тени холодной войны делегаты из более чем 130 стран — богатых и бедных, союзников и соперников — собрались в Алма-Ате по приглашению Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ. В течение нескольких дней невозможное казалось достижимым. Итоговая декларация была не техническим отчетом, а этическим манифестом: здоровье как неотъемлемое право человека; первичная медицинская помощь как универсальный путь к его реализации.
В центре документа одна фраза звучала как вечное — почти мистическое — обещание: «Здоровье для всех к 2000 году». Это было больше, чем цель: это было светское исповедание веры, глобальный призыв к справедливости в области здравоохранения.
На мгновение мир казался готовым договориться о жизни, а не о прибыли. Но геополитические ветры быстро изменились. Мечта не выдержала натиска рынка.
Всего через два года после декларации Алма-Аты, в 1980 году, сама ЮНИСЕФ — теперь в союзе с Всемирным банком — поддержала стратегический поворот: предложение о выборочной первичной медицинской помощи, обозначенное аббревиатурой GOBI.
Четыре меры с доказанной эффективностью — мониторинг роста, пероральная регидратация, грудное вскармливание и иммунизация — стали ядром нового подхода. Он был простым, дешевым, технократическим. Вертикальный подход, ориентированный на количественные цели и срочные результаты. Да, он спас миллионы детей. Но в то же время он фрагментировал системы здравоохранения, разрушил идеал комплексности и свел уход к сумме процедур.
Логика эффективности взяла верх над цивилизационным договором. И в результате был утрачен горизонт: здоровье как право, а не как заплатка.
Вопреки неолиберальному течению, которое формировало мир, Бразилия в 1988 году закрепила в конституции столь же редкую, сколь и смелую утопию: здоровье как право всех и неотъемлемая обязанность государства. Так родилась Единая система здравоохранения (SUS), задуманная как универсальный, бесплатный и комплексный проект, открытый для всех людей, связанный с территориями и повседневной жизнью населения. Это была не просто государственная политика. Это был жест интеллектуального, политического и этического сопротивления глобальному консенсусу, основанному на фокусировке и избирательности.
В то время как мир приспосабливал свой дискурс к логике дефицита, Бразилия закрепила в своей Конституции: ни одна жизнь не может быть оценена по ее платежеспособности. SUS возник как радикальное утверждение равенства: это был не просто проект страны, а проект человечества.
И блеск золота мимолетен
В 1990-е годы здравоохранение вновь появилось на радаре великих держав, но уже не как право, а как возможность. Всемирный банк начал перепозиционировать его как экономический актив: здоровые тела способствуют росту, снижают риски, повышают производительность. В США Институт медицины поднял эту тему до уровня стратегического приоритета национальной безопасности. Здравоохранение, ранее рассматриваемое как гуманитарный долг, стало геополитическим инструментом.
В 1998–2003 годах врач и бывший премьер-министр Норвегии Гро Харлем Брундтланд возглавила ВОЗ и попыталась изменить этот подход: она ввела терминологию прав человека в руководящие принципы здравоохранения, возглавила переговоры по Рамочной конвенции по борьбе против табака и перепозиционировала здоровье как легитимный инструмент международной дипломатии.
Ее руководство также вернуло ведущую роль национальным системам здравоохранения, сделав акцент на эффективности, справедливости и способности реагировать, как было изложено в Всемирном докладе о здоровье за 2000 год. Она предложила сократить неравенство в области здравоохранения, бороться со смертностью и заболеваемостью среди бедных и маргинализированных слоев населения и пропагандировать здоровый образ жизни. Он включил в глобальную повестку дня вопросы материнского и детского здоровья, вакцинации, недоедания, психического здоровья и борьбы с инфекционными заболеваниями, такими как малярия, туберкулез и ВИЧ/СПИД, а также хроническими заболеваниями, такими как рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Это был короткий миг, когда здравоохранение осмелилось заговорить на языке власти. Но золото было тонким, а время — скудным.
В этой атмосфере стратегической эйфории родились Gavi, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, и PEPFAR, американская программа по борьбе с ВИЧ в странах Юга. Международное финансирование здравоохранения взлетело с 5,6 миллиарда долларов в 1990 году до более чем 40 миллиардов в 2020 году. Фонд Билла и Мелинды Гейтс вложил беспрецедентные суммы, преобразовав эту сферу в соответствии с логикой корпоративной филантропии и измеримой эффективности. ВИЧ, туберкулез и малярия, ранее оттесненные на второй план в глобальных приоритетах, стали занимать центральное место в повестке дня в области здравоохранения.
Это был, без сомнения, так называемый золотой век глобального здравоохранения: невероятное сочетание частного капитала, публичной дипломатии и эпидемиологической чрезвычайной ситуации. Но за этим блеском скрывалась новая зависимость: ослабленные системы, организованные вокруг конкретных заболеваний, уязвимые перед нестабильностью финансирования.
Высокоэффективные кампании спасали жизни, да, но они функционировали как островки превосходства в океане нестабильности. Без интеграции с национальными системами и диалога с местными реалиями они превратились в временные, иллюзорные решения, неспособные построить долговечные сети медицинского обслуживания.
Продвижение частных экономических интересов начало ограничивать возможность консолидации более широкой парадигмы здравоохранения, основанной на социальных, территориальных и интеграционных аспектах.
Здравоохранение в эпоху филантропического капитала: кампании, цифры и зависимость
С 2000-х годов, с усилением глобализации здравоохранения, частные и корпоративные игроки — такие как фонды Гейтса и Блумберга, фармацевтические конгломераты и многосторонние финансовые учреждения — стали занимать центральное место в определении приоритетов и методологий в области глобального здравоохранения.
Их влияние росло на всех фронтах: политическом, техническом, финансовом. Они не только финансировали проекты. Они перестраивали повестки дня и определения. Они вносили ресурсы, да, но также и алгоритмы эффективности, метрики воздействия и модели управления, защищенные от демократического контроля. Под прикрытием филантропии институционализировалась новая парадигма: здравоохранение как инвестиция и жизнь как рисковый актив.
Это новое управление установило логику, ориентированную на экономический рост, расширение рынков здравоохранения и распространение конкретных технологий, часто в ущерб социальным детерминантам, равенству и структурной трансформации условий жизни.
В этом контексте Всемирная организация здравоохранения стала все больше зависеть от пожертвований, связанных с частными интересами. Эта зависимость подорвала ее институциональную автономию и сместила ее фокус: от формулирования универсальной государственной политики к реализации стратегий, сформированных коммерческими целями.
Последствия были незамедлительными. Широкие и устойчивые предложения — такие как всеобщий доступ к основным лекарствам, борьба с игнорируемыми заболеваниями или преодоление неравенства в области здравоохранения — сталкивались с финансовыми, политическими и оперативными препятствиями.
Так называемое «международное сотрудничество» постепенно превращалось в игру с условиями: страны глобального Юга получали готовые пакеты, ориентированные на конкретные цели, не учитывающие сложность их систем здравоохранения и социальные структуры, которые их поддерживают.
За гуманитарной риторикой укреплялось здравоохранение, управляемое как портфель инвестиций: сегментированное по показателям, упакованное в типовые модели, управляемое логикой рентабельности. Это было эффективное здравоохранение, да, но в коммерческом смысле этого слова.
Структурно фрагментированное, неспособное поддерживать постоянные сети медицинского обслуживания, оно создавало зоны вмешательства, но не системы. Результаты, но не справедливость.
То, что прославлялось в международных отчетах — с блестящими графиками и цифрами — обычно скрывало более глубокий недостаток: отсутствие комплексных, универсальных и устойчивых систем, способных оказывать помощь не только в чрезвычайных ситуациях.
Истощение перед падением
В 2010 году Институт метрик и оценки здоровья (IHME) отметил пиковый момент: международное финансирование глобального здравоохранения достигло исторического максимума. Но уже на этом пике стало очевидно, что истощение приближается. Взносы начали стагнировать. Стало очевидным институциональное утомление. Как будто модель достигла пределов своего расширения и воображения.
Тем не менее, в 2015 году ООН объявила о Целях устойчивого развития, с особым упором подтвердив обещание обеспечить всеобщее медицинское страхование. Контраст был разительным: провозглашался новый горизонт как раз в тот момент, когда фундамент начинал давать трещины. Это был последний проблеск устаревшей утопии, скорее декларативной, чем реалистичной, скорее декларативной, чем осуществимой.
Пять лет спустя пандемия COVID-19 окончательно разрушила то, что уже трескалось: она обнажила трещины, скрытые десятилетиями речей, хрупких соглашений и красиво преподнесенных паллиативных мер.
В 2021 году поток чрезвычайных ресурсов достиг 70 миллиардов долларов — респираторы пересекали океаны на военных самолетах, лаборатории мобилизовывали специальные силы, правительства импровизировали чрезвычайные положения. Но за логистической хореографией тихо продвигалась другая реальность: умножение долгов. В то время как спасали жизни в военном темпе, залагали будущее целых стран. Пандемия не только убивала, но и переформатировала условия глобальной зависимости. Она оставила видимые шрамы на кладбищах и невидимые — в бюджетных балансах будущих поколений.
С 2021 года сокращение перестало быть тенденцией и стало свершившимся фактом. Великобритания, исторически являвшаяся одним из столпов международного финансирования здравоохранения, резко сократила свою внешнюю помощь. Соединенные Штаты заморозили миллиарды долларов в виде трансфертов, парализовав PEPFAR, ту самую программу, которая на протяжении двух десятилетий символизировала их приверженность борьбе с ВИЧ в странах Юга. Европа, раздираемая региональными войнами, инфляцией и внутренней нестабильностью, перенаправила свои ресурсы внутрь своих границ. Всемирная организация здравоохранения объявила об историческом дефиците.
Но дело было не только в финансовом кризисе. Начинала рушиться сама структура многостороннего сотрудничества в области здравоохранения: ее соглашения, обещания, легитимность.
На смену сотрудничеству пришло неловкое молчание. И там, где раньше была архитектура, остались только дипломатические обломки.
Кто решает, что значит защищать жизни?
В эссе Яха, Рона и Ницана коллапс глобального здравоохранения является как количественным, так и символическим. Они описывают двойной коллапс: коллапс международной финансовой системы, да, но также и коллапс идеи многостороннего сотрудничества, основанного на равенстве.
По мере того как крупные доноры уходят, региональные коалиции пытаются заполнить образовавшуюся пустоту. Африканский CDC возникает как признак зарождающейся автономии, как попытка переосмыслить, с самого континента, скоординированный и укорененный ответ. Параллельно с этим Китай продвигается вперед со своим «Медицинским шелковым путем», предлагая финансирование, больничную инфраструктуру и биомедицинские технологии в виде обширных пакетов, с меньшими политическими условиями и большей стратегической централизацией. Намечается не только спор о торговых путях или дипломатическом влиянии. Это битва за грамматику ухода на планетарном уровне.
И вопрос, который тихо проходит по всем коридорам власти, звучит так:
Кто отныне будет решать, что значит защищать жизни?
Запланированное удушение государственных систем здравоохранения
Между тем такие страны, как Бразилия, Мексика и Индия, ведут ежедневную — и зачастую одиночную — борьбу за сохранение своих государственных систем здравоохранения. Они сталкиваются с хроническим недофинансированием, которое постепенно душит их, с прогрессирующим захватом частным сектором, который превращает медицинское обслуживание в товар, и с культурным сопротивлением, культивируемым на протяжении долгого времени, которое варьируется от фабрикации дезинформации до систематического пренебрежения к универсальной государственной политике.
Во многих случаях угроза исходит не только извне, но и изнутри самого институционального аппарата и организованного гражданского общества. Такие секторы, как частное медицинское страхование, больницы, фармацевтическая промышленность и производители медицинского оборудования, ведут интенсивную стратегическую деятельность, чтобы повлиять на государственную политику, законы и нормативные акты в своих интересах. Они располагают квалифицированными техническими специалистами, широкой политической поддержкой и прямым доступом к исполнительной и законодательной властям, чтобы формировать решения в соответствии со своими интересами, которые нередко зависят от намеренного ослабления государственной системы.
В Бразилии, например, эти сектора оказывают давление с целью дерегулирования частного сектора, продвигают повторные попытки фрагментации SUS, непосредственно вмешиваются в политику первичной медицинской помощи и защищают расширение частного рынка под предлогом «облегчения» государства, когда на практике они углубляют его захват.
Накоплены многочисленные жалобы на незаконные пожертвования на избирательные кампании, непрозрачные альянсы между политическими представителями и руководителями сектора здравоохранения, а также систематические маневры по ослаблению регулирующей роли государственных органов.
Речь идет не только о бюджетной дискуссии. Речь идет о тихом размывании общественного договора. О проекте общества.
В Индии фрагментация системы здравоохранения принимает еще более радикальные формы. Частный сектор доминирует, отвечая примерно за 70% прямых расходов населения, при этом часто предоставляя услуги низкого качества, имея слабое регулирование и оказывая сильное влияние на государственную политику, которая расширяет рынки за счет и без того ослабленной государственной системы.
Растущая передача государственных функций НПО и частным организациям, часто финансируемым за счет иностранных пожертвований, ставит под угрозу комплексность медицинского обслуживания и ослабляет суверенитет государства в области здравоохранения. Инновации сталкиваются с институциональными барьерами, отсутствием координации между участниками и структурной неравномерностью конкуренции с крупными транснациональными корпорациями, которые определяют приоритеты и поглощают ресурсы.
Несмотря на такие политические меры, как Национальная миссия по сельскому здравоохранению, сохраняются глубокие социальные и территориальные неравенства, усугубляемые низкой политической мобилизацией наиболее уязвимых слоев населения.
В противовес логике коммерциализации процветают альтернативные формы сопротивления, такие как Народные поликлиники, отстаивающие модель всеобщего, территориального и солидарного доступа. Но они по-прежнему действуют на периферии, почти подпольно, под гнетом гегемонии приватизации. Они — разбросанные маяки в тумане захваченной системы.
Мексика также сталкивается с проблемой глубокой фрагментации системы здравоохранения, состоящей из государственных и частных подсистем, в которых существуют региональные, социальные и институциональные неравенства. Частный сектор оказывает все большее влияние, оказывая давление с целью смягчения регулирования, получения доступа к государственному финансированию и расширения страхования и услуг, ориентированных на наиболее обеспеченные слои населения.
Эта динамика ослабляет усилия по обеспечению всеобщего доступа, углубляет сегментацию медицинского обслуживания и укрепляет государственно-частные партнерства, которые не всегда расширяют доступ, а зачастую искажают его. В результате наиболее уязвимые группы населения по-прежнему имеют нестабильное страховое покрытие и несут высокие прямые расходы — это регрессивная модель, которая перекладывает риски в области здравоохранения на отдельных граждан.
Перед Мексикой стоит двойная задача: укрепить по-настоящему универсальную государственную систему и создать регулирование, способное сдержать захват частными интересами, не впадая при этом в технократизм или клиентелизм. В конечном счете, речь идет о возвращении здравоохранения в сферу права, а не привилегий.
В этих условиях наследие Алма-Аты сохраняется скорее как принцип, чем как практика: оно живет в официальных документах, в выступлениях на конференциях, в примечаниях к министерским директивам. Но в повседневной жизни оно остается в тени быстрых, технологичных и рентабельных решений — ответов, которые обещают инновации, но часто усугубляют исключение. Обещание территориализированного, комплексного и всеобщего медицинского обслуживания стало фоновым шумом в глобальной системе, которая больше не слышит. И все же многие продолжают держаться за это обещание, не из ностальгии, а как за горизонт. Потому что даже среди руин есть принципы, которые отказываются умирать.
В душных коридорах базового медицинского учреждения в Форталезе, в переулках Дели, на холмах глубокой Мексики врачи, общественные работники, медсестры и пациенты продолжают создавать — с помощью минимальных повседневных жестов — подпольные формы Ала-Аты. Уже не как великий международный договор, а как радикальная, тихая практика: та, которая, отказываясь отказаться от жизни из-за бедности, периферийности или невидимости, подтверждает здоровье как неотъемлемое право и как возможный язык другого мира.
Еще есть время
Предложение Яха, Рона и Ницана, по сути, прагматично: диверсифицировать источники финансирования, укрепить региональные коалиции, переосмыслить институциональную архитектуру глобального здравоохранения. Речь не идет о возвращении в прошлое, а о создании нового возможного соглашения, менее зависимого от нестабильных доноров и более укорененного в устойчивой политической солидарности.
Но как этого добиться в мире, где сама идея международного общего блага, кажется, распадается на глазах? Где сотрудничество уступает место конкуренции, наука становится идеологическим и дипломатическим оружием, а здравоохранение — геостратегическим активом.
Вопрос теперь заключается не только в том, есть ли еще время, но и в том, для чего оно будет. Чтобы восстановить утраченное? Или чтобы наконец представить себе то, что никогда не имело шанса родиться? Возможно, будущее глобального здравоохранения больше не зависит от конференций, многомиллионных фондов или хрупких соглашений между нестабильными государствами и частным сектором. Возможно, оно тихо скрывается в поступках тех, кто настаивает на заботе, даже когда все вокруг уже сдались.
Есть обещания, которые выживают после своего нарушения. И есть идеи — такие как идея о том, что каждая жизнь имеет значение — которые продолжают жить, даже когда мир делает вид, что их не слышит.
Отсутствие решений не является нейтральным: оно имеет измеримые и разрушительные последствия. Только замораживание PEPFAR, если оно сохранится, может привести к 460 000 дополнительных детских смертей от СПИДа к 2030 году.
Речь идет не об абстрактных прогнозах, а о прерванном будущем: о детях, обреченных решениями, принятыми за закрытыми дверями, вдали от затронутых сообществ, вдали от реальных тел, от реальных жизней.
Десятилетия исследований, государственных инвестиций и международного научного сотрудничества теперь находятся под угрозой исчезновения, не с грохотом, а с медленным и неумолимым шумом чего-то, что ускользает, как песок между пальцами. То, что казалось прочным, показывает свою хрупкость. А то, что считалось завоеванным, в конце концов, показывает свою обратимость.
Эпилог: отложенное обещание
Глобальное здравоохранение знало своих визионеров. Лорд Доусон, который представил себе территориальные сети, когда мир еще блуждал среди руин. Фидель Кастро, который превратил медицину в инструмент суверенитета. Гро Харлем Брундтланд, которая пыталась совместить права человека с дипломатией в области здравоохранения. И анонимные — санитаристы, активисты, рядовые работники — которые в переходный период, полный надежд, осмелились создать SUS.
Она также познала невыполненные обещания: Алма-Ата, Цели устойчивого развития, упорную мечту о единой, справедливой и солидарной системе. Но почти всегда преобладала капитуляция. Не явная, открытая, заявляемая капитуляция, а та, которая медленно проникает в сокращения бюджета, в технические отчеты, в отклоненные повестки дня.
Капитуляция, которая не разрушает, но опустошает. Которая не кричит, но заставляет замолчать. Которая не отрицает, но откладывает. Обещание, отложенное столько раз, что уже спутано с забвением. Но любое отложенное обещание по определению несет в себе возможность возвращения. Возможно, задача состоит не в том, чтобы повторить старые проекты, а в том, чтобы заново научиться их представлять, не как ностальгию, а как настойчивость. Потому что, в глубине души, мы еще не нашли более достойного способа заботиться друг о друге.
«Здоровье для всех в 2000 году», обещал Алма-Ата. Мы подошли к 2025 году с болезненным и обратным вопросом: сколько людей сегодня имеют здоровье как право, а не как привилегию?
Если так называемый «золотой век» закончился, то, возможно, настоящий вопрос никогда не был о его конце, а о его существовании. Почему здоровье должно было быть «золотым», чтобы стать всеобщим? И как представить себе будущее, в котором доступ к жизни не зависит от чрезвычайных финансовых потоков, а от самого сложного — и наименее зрелищного — политического решения: этического обязательства заботиться как о принципе, а не как об исключении?