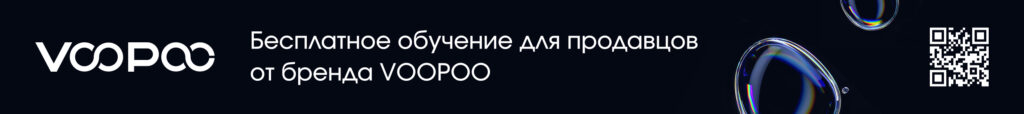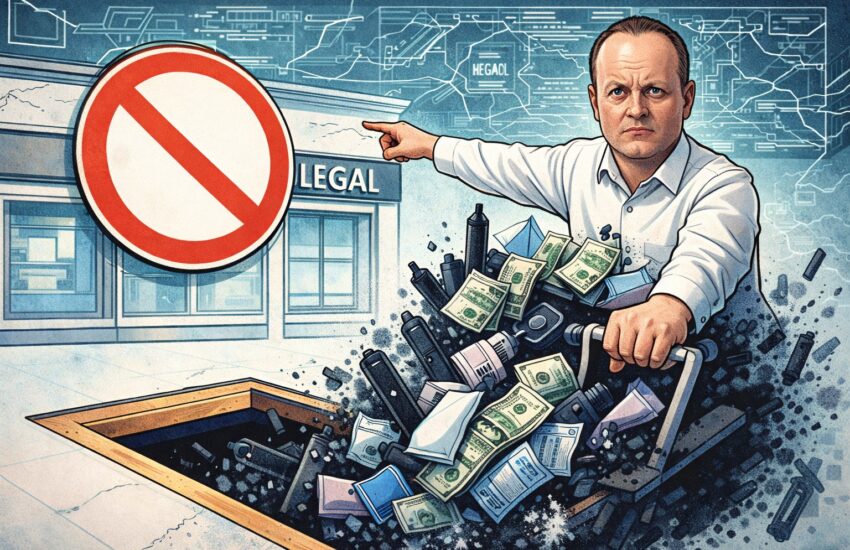Назвать риск, рассказать о вреде
Дело не только в никотине: дело в истории, которая за ним стоит. На протяжении десятилетий борьба с табаком была сосредоточена на видимом враге: сигаретах. Но в XXI веке никотиновые продукты меняются быстрее, чем политика, направленная на их контроль, а карта рисков стала более неоднозначной и политизированной. Кривые, голоса, нюансы и напряженность сегодня формируют новое поле битвы за общественное здоровье.
Источник: The Vaping Today
В Соединенных Штатах карта потребления никотина среди молодежи снова меняет свои очертания и цвета. После стремительного роста популярности вейпинга, который достиг своего пика в 2019 году — когда 27,5 % учащихся средних школ заявили, что использовали электронные сигареты в течение последнего месяца — статистические кривые наконец начали снижаться.
Первое, что приходит в голову, — это интерпретировать этот спад как подтверждение эффективности ограничительной политики. Но цифры сами по себе редко отражают причинно-следственные связи. Между пиком и спадом произошли регуляторные реформы, колебания предложения, культурные изменения и, что не менее важно, появление заменителей.
В 2024 году распространенность снизилась до 7,8 % среди учащихся средних школ и до 5,9 % среди всех учащихся. Частичная победа. Успех меры измеряется не только тем, что она позволяет искоренить, но и тем, что занимает оставшееся место. И в эту нишу, почти незаметно, проникли никотиновые пакетики: маленькие пакетики с никотиновым порошком — без табака, без сжигания — которые незаметно помещаются между десной и губой.
В Швеции аналогичная ситуация со снюсом — близким родственником пакетиков — способствовала тому, что в этой стране зарегистрирован самый низкий уровень курения и один из самых низких уровней рака легких в Европе. Однако перенос этой модели в другие контексты сопряжен с культурным сопротивлением, регуляторными трениями и совершенно другими коммерческими стратегиями.
В последнем выпуске Национального опроса о табаке среди молодежи (NYTS) пакетики с никотином уже занимают второе место среди продуктов, наиболее потребляемых подростками: 1,8 % от общего числа и 2,4 % среди учащихся средних школ. Для некоторых они являются ранним признаком формирующегося риска, для других — доказательством того, что никотин, лишенный дыма и пламени, может изменять форму, не теряя своей привлекательности, и при этом существенно снижать связанный с ним вред.
На этом перепутье общественное здравоохранение сталкивается с парадоксом, столь же старым, сколь и стойким: как управлять продуктом, который одновременно обещает снизить вред по сравнению с более смертоносными альтернативами и угрожает изменить карту зависимости среди молодежи.
Слишком раннее регулирование может задушить потенциальный инструмент снижения рисков; слишком позднее регулирование, напротив, оставляет дверь открытой для рынка, который навязывает свои правила, часто руководствуясь коммерческими интересами, а не общественным благом.
В этой неопределенной области, где наука развивается медленнее, чем маркетинг, задача состоит не только в том, чтобы решить, что запретить, а что разрешить, но и предсказать, какие формы — и какие лица — примет никотин в ближайшие годы.
Суть спора: мнения и аргументы
Недавно одним из самых ярких голосов, разжегших дискуссию, стал голос Леаны С. Вен, врача скорой помощи и обозревателя газеты «Вашингтон пост». В своей статье от 15 июля 2025 года Вен предупреждает, что никотиновые пакетики представляют собой новую угрозу для здоровья молодежи. Ее аргументация основывается на трех основных моментах:
- Нейротоксичность у подростков, подтвержденная исследованиями, которые связывают раннее употребление никотина с ухудшением памяти, внимания и контроля над импульсами, а также с повышенной склонностью к тревоге и депрессии.
- Тенденция к росту потребления среди молодежи, со ссылкой на исследование, опубликованное в JAMA Network Open, которое выявило удвоение потребления среди учащихся 10-12 классов: с 1,3 % в 2023 году до 2,6 % в 2024 году. К этому добавляется видное место, которое занимают пакеты в NYTS 2024.
- Маркетинг, унаследованный от бума вейпинга, привлекательные ароматы, в том числе детские, на нелегальном рынке; косвенная реклама через инфлюенсеров; присутствие на фестивалях и в модных журналах, а также эстетика, граничащая с трансгрессией.
Подход Вэна, хотя и твердый в своем предупреждении о потенциальных рисках, движется по полю, где доказательства еще фрагментарны.
Его диагноз склонен прогнозировать сценарии с высоким воздействием на основе первоначальных признаков, что является повторяющейся моделью в области общественного здравоохранения, когда целью является полная профилактика. Однако такой подход рискует преувеличить начинающиеся корреляции, которые еще не доказаны как причинно-следственные связи, и недооценить разнородность моделей потребления среди подростков. Хотя ее предупреждение может быть полезным как стимул для раннего наблюдения, оно также может усилить алармистскую риторику, которая преждевременно закроет дискуссию о потенциале снижения вреда для взрослых. Другими словами, Вен придерживается логики нулевого риска, которая исторически склонялась к тому, чтобы рассматривать любую новую форму никотина как угрозу, которую необходимо нейтрализовать, а не как вектор, который при правильном управлении мог бы вытеснить более вредные практики.
На противоположной стороне дискуссии находится Мэтью Холман, директор по науке и регуляторной стратегии Philip Morris International (PMI) в США. В своем официальном ответе, опубликованном в The Washington Post, Холман ссылается на отчеты FDA, которые разрешили продажу двадцати продуктов ZYN. Согласно этим документам:
- Продукты малопривлекательны для людей, которые никогда не употребляли никотин или отказались от него.
- «Значительная часть» взрослых, которые их пробуют, полностью заменяют ими курение сигарет.
- Риск приобщения молодежи к курению, хотя и не нулевой, был оценен как низкий.
- Полная замена связана со значительным улучшением здоровья, включая заметное снижение биомаркеров воздействия.
Холман также подчеркивает, что PMI не продает сигареты в США и в качестве доказательства своей приверженности представляет ряд политик ответственного маркетинга: отсутствие оплачиваемых инфлюенсеров, использование моделей старше 35 лет и ограничение доступа к цифровому контенту для лиц старше 21 года. Однако эти обязательства, хотя и правдоподобные на бумаге, не лишены двусмысленности: они зависят исключительно от самооценки самой компании и не подвергаются независимым аудитам, которые бы проверяли их фактическое выполнение. Отсутствие внешних механизмов контроля превращает эти политики скорее в обещания, чем в гарантии.
Их вмешательство вписывается в корпоративный дискурс, который, хотя и подкреплен данными, подтвержденными FDA, действует в двойных рамках: с одной стороны, легитимизировать продукт как альтернативу сигаретам с меньшим риском; с другой стороны, укрепить стратегическую позицию на рынке, где переход от табака к никотину без сжигания представляет собой как возможность для общественного здравоохранения, так и путь к коммерческой экспансии. Это совпадение интересов здравоохранения и экономической выгоды — необычное, но не невозможное — требует постоянного контроля, именно для того, чтобы не допустить превращения нарратива о «снижении вреда» в риторический щит против более строгих правил.
Между этими двумя позициями находится Брэд Роду, профессор медицины в Университете Луисвилля и видная фигура в области исследований по снижению вреда, связанного с табаком. Роду ставит под сомнение цифры, приведенные как Лианой Вен, так и Митчем Зеллером, бывшим директором Центра по табачным изделиям (CTP/FDA), относительно высоких процентов двойного использования. Основываясь на микроданных Национального опроса о здоровье (NHIS) за 2024 год, он утверждает, что 40 % взрослых, которые используют электронные сигареты, являются бывшими курильщиками, 26 % — нынешними курильщиками, а 34 % — никогда не курили. По его мнению, такое распределение противоречит доминирующей точке зрения о том, что «двойные пользователи» составляют большинство.
По мнению Роду, сохранение двойного потребления отражает не столько неэффективность альтернативных устройств, сколько провал институциональной коммуникации. Он отмечает, что официальные кампании систематически приравнивают риски вейпинга и курения, тем самым передавая идею о том, что переход не приносит значительных выгод. Этот посыл, по его мнению, сдерживает полный переход на продукты с меньшим риском и способствует сохранению комбинированного потребления.
Его точка зрения, хотя и подкрепленная анализом репрезентативных данных, исходит из четко определенной рамки: он уделяет приоритетное внимание снижению вреда как центральному элементу политики в области здравоохранения, даже если это означает принятие определенного уровня инициации среди некурящих. Этот подход, часто противоречащий принципу предосторожности, которым руководствуются такие деятели, как Вен, исходит из предпосылки, что чистая выгода для курящего населения превышает потенциальные издержки, связанные с появлением нового поколения потребителей.
Таким образом, разногласия не сводятся к цифрам: в сущности, это столкновение философских подходов к регулированию. Один стремится минимизировать любой возникающий риск, другой отдает предпочтение смещению наиболее серьезного вреда, даже если полное искоренение остается недостижимой целью.
В конечном счете, текущая дискуссия о никотиновых пакетах не сводится к техническому спору или количественному разногласию: это борьба за рамки, в которых мы решаем, какие риски терпеть, кого защищать и какими средствами это делать. Между строгостью принципа предосторожности и прагматизмом снижения вреда существует непримиримое, но не новое противоречие. Недавняя история борьбы с табаком отмечена именно такими поворотами: моментами, когда определение «врага» меняется, трансформируется, маскируется.
Кривая и ее изгибы
В 1990-х и 2000-х годах враг был ясен: обычные сигареты. Среди учащихся средних школ распространенность курения превышала 30 %. Агрессивные кампании, высокие налоги, запрет на рекламу и ограничения в общественных местах привели к устойчивому снижению до начала 2010-х годов. Затем наступил стремительный рост популярности электронных сигарет, который с 2014 года был подкреплен появлением более совершенных устройств и ароматов, выходящих за рамки табака и ментола.
В период с 2017 по 2019 год Национальное исследование по табаку среди молодежи (NYTS) зафиксировало резкий скачок: с 11,7 % до 27,5 % недавнего использования электронных сигарет среди учащихся средних школ. Регуляторная реакция — частичные ограничения на ароматизаторы, кампании по сдерживанию — совпала с изменением культурных тенденций и появлением замещающих продуктов, что в совокупности помогло обратить вспять эту тенденцию. К 2024 году только 7,8 % учащихся средних школ и 5,9 % всех учащихся заявили о недавнем употреблении электронных сигарет. Потребление любых табачных изделий снизилось до 10,1 % среди учащихся средних школ и до 8,1 % среди всех учащихся: менее трети от пикового показателя, достигнутого вейпингом.
Но статистика также бросает тень. Появление пакетиков нарушило ощущение контроля: они превзошли по потреблению среди молодежи сигареты и сигары, повторяя, по мнению их критиков, те же стратегии соблазнения, которые способствовали буму вейпинга. Однако для сторонников снижения вреда разница существенна: вектор риска гораздо ниже, и задача состоит не в том, чтобы вводить неизбирательные запреты, а в том, чтобы точно регулировать, максимально увеличивая замещение среди взрослых и минимизируя привлекательность среди молодежи.
В этом вопросе биоэтические принципы переплетаются и сталкиваются: польза, отсутствие вреда, автономия и справедливость. Курение, несомненно, гораздо более вредно, чем использование пакетиков, но если они не могут полностью заменить сигареты, потенциальные выгоды размываются. Между неограниченным разрешением и полным запретом открывается узкий коридор, требующий политики, способной закрыть опасные двери для несовершеннолетних, не блокируя при этом жизненно важные выходы для взрослых курильщиков. Опыт таких стран, как Великобритания, где активно продвигается вейпинг среди курильщиков, одновременно вводясь строгие ограничения на маркетинг среди молодежи, показывает, что баланс не только желателен, но и возможен.
На протяжении полувека общественное здравоохранение боролось с курением с помощью изображений почерневших легких. Это было эффективно. Это спасло жизни. Но это также привело к тому, что в общественном дискурсе никотин — вызывающий привыкание, да, но сам по себе не смертельный — был приравнен к смертельному сгоранию. В этом разрыве между химией и политикой сегодня зарождается спор вокруг пакетиков. Для некоторых они являются троянским конем для привлечения молодежи, для других — мостом к менее смертельному миру. Обе метафоры, в конечном счете, являются риторическими артефактами: они зависят от контекста, в котором рассказывается история.
Между паникой и самоуспокоенностью прокладывается путь регулирования, этики и нарратива, который требует не только весомых доказательств, но и критического пересмотра историй, которые мы рассказываем о том, что нам угрожает. Иногда вещество имеет меньшее значение, чем нарратив, который его укрощает или осуждает.
Недавняя история потребления никотина среди подростков показывает кривую, которая не только поднимается или опускается: она разветвляется, изгибается, переопределяется. Каждый спад отмечался как триумф, каждый подъем — как угроза. Но этот наклон не только эпидемиологический: он также семантический, политический, этический. То, что мы понимаем под «риском» и с чем решаем бороться, зависит как от цифр, так и от сопровождающего их рассказа.
От сигарет с табаком до вейпинга, а оттуда к пакетикам — общественное здравоохранение прошло через меняющийся ландшафт, где категории, которые раньше давали уверенность — курильщик, некурящий, зависимый, защищенный — больше не достаточны. То, что когда-то было четко очерченным врагом, разбилось на продукты, практики и дискурсы, которые бросают вызов бинарной логике запрета или разрешения.
В этой области регулирование больше не может ограничиваться реакцией: оно должно предвидеть, различать нюансы, точно калибровать. Оно, безусловно, нуждается в науке, но также и в критическом взгляде, чувстве повествования и этическом мужестве. Потому что иногда здоровье ставит под угрозу не только вдыхаемое или поглощаемое вещество, но и история, которую мы себе о нем рассказываем.
История последних трех десятилетий показывает, что борьба с курением — это не война с окончательными победами, а цепочка переходов: от сжигания к аэрозолю, от аэрозоля к пакетику. Каждый шаг был одновременно отступлением от максимального вреда и появлением новых неопределенностей. Попытки искоренить каждый новый формат с той же решимостью, с которой боролись с обычными сигаретами, игнорируют неудобную правду: там, где сохраняется спрос, предложение меняется.
Снижение вреда принимает этот факт и превращает его в стратегию. Она исходит не из смирения, а из активного принципа: отучить потребителей от курения, которое наносит наибольший вред, не отказываясь при этом от защиты тех, кто еще не начал курить. Это не снисходительность, а прагматизм в регулировании. Это означает создание бдительной системы с калиброванными шлюзами, регулирующими возраст доступа, ограничения рекламы, химический состав и налогообложение, пропорционально величине риска.
Идеального баланса не существует, но может быть баланс контроля: неудобный, возможно, но более устойчивый, чем иллюзия полного искоренения. Между идеалом и возможным открывается пространство, которое не отрицает этику, а преобразует ее в нормативную архитектуру. И в этом пространстве — как и во всей политике общественного здравоохранения — на карту поставлено не только то, как регулируется вещество, но и то, как регулируется общество.