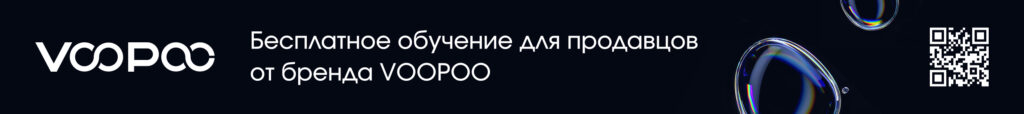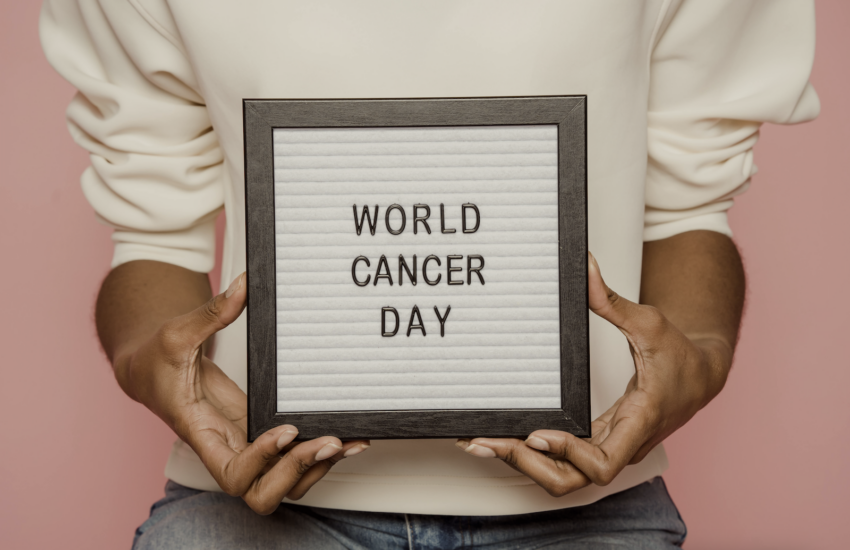Конфликт интересов – переопределен как относящийся исключительно к отрасли
Источник: Substack
Автор Alan Gor
В области борьбы с табаком понятие «конфликт интересов» незаметно претерпело такое серьезное семантическое сужение, что теперь означает практически одно и только одно: близость к промышленности. Не близость к власти, не близость к правительству, не близость к правозащитным организациям, не близость к собственным прошлым заявлениям или профессиональному бренду, а только и исключительно близость к промышленности. Финансирование со стороны табачной или никотиновой компании рассматривается не просто как потенциальный источник предвзятости, но как моральное загрязнение, которое заранее дисквалифицирует аргументы. Между тем, другие формы интереса — идеологические, репутационные, институциональные и карьерные — пропускаются, как будто они морально нейтральны или, что еще хуже, невидимы.
Это переосмысление имеет значение, поскольку оно определяет, что можно говорить, кто имеет право это говорить и какие виды доказательств считаются законными. Оно также создает своеобразную этическую асимметрию. Одни интересы считаются абсолютно коррумпированными, другие же вообще не считаются интересами.
Начнем с очевидного примера. Исследователь, который когда-либо принимал финансирование от промышленности, должен открыто раскрывать эту информацию, часто повторяя ее, и его работа обычно отвергается независимо от ее содержания или качества. Его выводы по умолчанию считаются подозрительными. Такая тщательная проверка не является необоснованной. Финансовые стимулы могут искажать суждения. Раскрытие информации существует не просто так. Проблема не в том, что финансирование со стороны промышленности рассматривается как конфликт интересов, а в том, что оно рассматривается как единственный конфликт, который стоит упоминать.
Но теперь рассмотрим зеркальное отражение, которое настолько нормализовано, что едва ли воспринимается как этическая проблема. Исследователь, чья вся карьера, источник финансирования, общественная репутация и институциональная роль зависят от поддержания определенной нарративной линии, например, что никотиновые продукты, кроме сигарет, однозначно вредны, что снижение вреда — это корпоративный трюк или что запрет — единственная этическая политическая позиция, не рассматривается как находящийся в конфликте интересов. Их стимулы рассматриваются как нерелевантные фоновые условия, а не как активное давление, формирующее интерпретацию.
Это странно. Карьерные стимулы являются одними из самых сильных стимулов, которые испытывают люди. Вся профессиональная идентичность строится на том, чтобы быть «правым» в отношении конкретной проблемы. В области борьбы с табакокурением целые исследовательские центры, кафедры, долгосрочные гранты и роли экспертов, выступающих в СМИ, построены вокруг единой интерпретационной рамки. Гранты продлеваются, когда результаты исследований соответствуют приоритетам финансирующих организаций. Медиа-профили растут, когда исследователи передают четкие моральные послания, а не нюансы. Консультативные должности, приглашения и почести достаются тем, кто остается в рамках принятой системы. Ничто из этого не требует сознательной нечестности. Это просто формирует то, какие вопросы задаются, какие неопределенности подчеркиваются, а какие результаты тихо преуменьшаются.
Идеология функционирует аналогичным образом, хотя ее еще менее вероятно признать. Если исходить из морального убеждения, что любое немедицинское употребление никотина по своей сути является неправильным или что любая связь с табачными компаниями не подлежит искуплению, то доказательства, подтверждающие снижение вреда, всегда будут вызывать подозрение, независимо от их эмпирической силы. Данные не появляются в вакууме; они интерпретируются через призму предвзятых мнений. Однако в борьбе с табаком сильные идеологические предвзятые мнения рассматриваются не как потенциальные предубеждения, а как признаки моральной ясности.
Существует также институциональный конфликт, который, пожалуй, игнорируется чаще всего. Органы здравоохранения и правозащитные организации часто активно лоббируют определенные политические меры, публично заявляют о своей моральной ответственности за эти меры, а затем позиционируют себя как нейтральных оценщиков результатов этих же мер. Когда результаты оказываются неоднозначными или отрицательными, появляется очевидный стимул для пересмотра, отсрочки или переосмысления данных с целью сохранения доверия. Признание ошибки не только сложно с интеллектуальной точки зрения, но и может поставить под угрозу бюджет, авторитет и политическое влияние. Тем не менее, эти конфликты редко раскрываются, не говоря уже о том, чтобы подвергаться расследованию.
Что делает эту асимметрию столь разрушительной, так это то, что она намеренно стирает грань между аргументами и принадлежностью. Вместо того чтобы спрашивать, верно ли утверждение, критики спрашивают, какое отношение к отрасли имеет автор утверждения. Как только этот вопрос получает ответ, содержательная дискуссия зачастую заканчивается. Это не скептицизм, а эвристический прием для отклонения аргументов.
Результатом является моральная монокультура, которая насаждается не через открытое обсуждение, а через мягкую силу: нормы экспертной оценки, критерии финансирования, формулировки этических комитетов, приглашения на конференции и усиление влияния со стороны СМИ.
Одним из наиболее эффективных механизмов, поддерживающих эту монокультуру, является ротация экспертов. Одна и та же относительно небольшая группа деятелей постоянно циркулирует по системе: они работают в правительственных консультативных комитетах, составляют или контролируют ключевые отчеты, выступают в качестве экспертов-комментаторов в основных СМИ, рецензируют статьи друг друга и входят в редакционные советы журналов, которые определяют, что считается приемлемым доказательством. Ни в коем случае это не похоже на коррупцию в грубом смысле этого слова. Это похоже на опыт. Это похоже на достоверность. Это похоже на преемственность.
Но ротация создает замкнутый эпистемический цикл. Когда одни и те же люди помогают формулировать исследовательские вопросы, оценивают результаты, консультируют политиков по поводу интерпретации, а затем объясняют эти интерпретации общественности, нет необходимости активно подавлять инакомыслие. Оно просто никогда не принимается во внимание. Нежелательные результаты представляются как методологически слабые, контекстуально вводящие в заблуждение или этически подозрительные. Альтернативные интерпретации рассматриваются как путаница, а не как несогласие. Новые голоса с трудом пробиваются не потому, что они неправы, а потому, что они незнакомы.
Эта динамика усиливается практикой журналов, которые в значительной степени полагаются на узкий круг рецензентов из одного и того же интеллектуального сообщества. Рецензирование становится не столько проверкой строгости, сколько проверкой согласованности. Работы, которые ставят под сомнение основополагающие предположения, тщательно проверяются на наличие всех возможных недостатков, в то время как работы, которые их подтверждают, получают щедрую интерпретацию. Опять же, никакого заговора не требуется. Общие предположения делают свое дело сами по себе.
Участие СМИ замыкает круг. Журналисты, находясь под давлением сроков, обращаются к тем же надежным экспертам, которые могут предоставить четкие моральные нарративы и авторитетные цитаты. Эти эксперты, в свою очередь, становятся более заметными, более цитируемыми и более незаменимыми, что еще больше укрепляет их статус нейтральных арбитров, а не заинтересованных участников. Со временем различие между экспертом и защитником стирается, в то время как язык нейтральности остается неизменным. Целые категории доказательств, потребительский опыт, рыночные данные и реальные эффекты замещения рассматриваются с подозрением, поскольку они не вытекают из утвержденных институциональных путей. И наоборот, слабые или неоднозначные выводы, которые поддерживают доминирующую нарративную линию, усиливаются и морализируются. Конфликт интересов становится не столько этической гарантией, сколько инструментом контроля границ.
Ничто из этого не является аргументом в пользу безоговорочного доверия к отрасли. Это аргумент в пользу применения одинакового этического подхода ко всем остальным. Отрасль имеет свои собственные стимулы, и история дает достаточно поводов для осторожности. Но этическая последовательность требует симметрии. Если финансовые интересы могут повлиять на суждение, то же самое может сделать и зависимость от карьеры. Если финансирование отрасли должно раскрываться, то же самое должно касаться и адвокатских функций, политических обязательств и институциональных интересов. Если мы беспокоимся о мотивированном мышлении, мы должны беспокоиться о нем везде, а не только там, где это политически удобно.
Более честная система рассматривала бы конфликт интересов как универсальное человеческое состояние, а не как грех, присущий только одной группе, в то время как все остальные тихо оправдываются. Каждый привносит свои интересы в обсуждение. Этическая задача состоит не в том, чтобы делать вид, что это не так, а в том, чтобы выявить эти интересы и затем оценить аргументы по их достоинствам.
Пока этого не произойдет, «конфликт интересов» будет оставаться не столько принципом, сколько оружием, используемым выборочно, риторически и часто для того, чтобы избежать столкновения с неудобными фактами. А область, которая гордится защитой общественного здоровья, будет продолжать ограждать себя от того самого контроля, которого она требует от других.